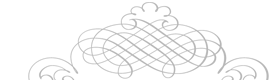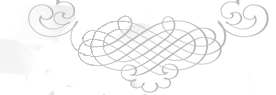Уж кому–кому, а старому егерю Егору Власовичу доподлинно известна волчья натура. - Я ить что? – Умиленно глядя на собеседника пьяненьким взором, похваляется он. - Я ить их, ребятушек знаю лучше, чем свою бабу знавал, даром, что мы с ней уж и серебро свадьбы позолотили первачом. Если хочешь знать, нет добрее матери, чем волчица. Она во спасение своих детей сама с голоду чуть не сдохнет, а детей накормит. Нет вернее друга и сродственника, чем они, братушки. А уж мудры, уж мудры, батенька ты мой – даже самый шелудивый из них, и тот – не дура. Зря шагу не ступит, попусту голоса не подаст. Всё у них, бедолаг, с умыслом да со значением. Обряди их в людей – в Министрах али в генералах ходили бы, и не ниже. Нет, не ниже. Ты посмотри, полюбуйся, как они себе пищу промышляют, обдумай каждый их шаг, обмозгуй каждое его действо; приложи к своим наблюдениям всё волчье знание природы, понимание её постоянного движения, умения использовать природу себе на пользу – вот когда ты всё это поймёшь, ты не то что стрелять в них не станешь, потому, как за позорище сочтёшь, а даже лучшего своёго петуха – певуна отдашь им на благость. Вот как это я это всё, ешь тя мухомор, понимаю. И ты смекай. Как-то по весне стали пропадать овцы. – Начал он. И что дивное, так это то, что двери овчарни вроде б на запоре. Выбежать со двора, не то что из хлева, овцы в ночную пору не могут. Хозяйка придёт поутру в сарай – двери на распах, в хлеву голь голимая. Куда и как стреканули овцы – уму непостижимо. На людей грешить – не на кого. Отродясь у нас здесь никто таким рукоделием. Знать – серый братушка не звано побывал в гостях. Но как? Как он смог запоры снять? – вот задача, мухомор тя ешь… Решил я укараулить. Сговорился с одним хозяином, у кого ешшо гостенёк не побывал. Стал я кажну ночь таиться в том хлеву. Хозяин с вечера погоняет овец по двору, чтоб они там свои следы оставили копытцев, запаха, шерстинки да помёт. На ночь – в пригон их загонит. А я уже там. По началу бедолаги меня трусили, потом ничего – пообвыкли, корки хлеба али жмыха из рук тягали, ещё выманивали. Этак, подойдёт, кто посмелее, обнюхает и мордочку тычет в ладонь, да ешшо ножкой запотапывает, дескать – давай. Я и давал. Когда мы этак-то обзнакомились, мне стало куда как легче ночную службу нести. Они спокойны, а мне того и надо. Он-то, серый, по шуму быстро расчует, что к чему и ни-ни-ни, себя не явит. А как вокруг полное спокойствие – ему и вольготность: делай, что хочу безо всякой там помехи и опаски – только не зевай… И что ты думаешь? Ажно на шестую ночь он припожаловал. Серый ещё на подходе был, как овцы его определили. Они заходили по округу стены, позамирали и застрепенулись – глазками запосвечивали, даром, что полная луна в малюсенькое оконце лучилась. А я уж и в окошко то вглядывать сторожусь. Под самым тем окошком я и присел. Через это отверстие хозяева навоз всю зиму выбрасывают, так что к весне там горушка образовывается. А время за полночь. Слышу – хрум – хрум, и тишь. Не торопко, крадучись шёл мастер ночного ремесла. В соседском подворье собачонка затявкала, да рьяно так-то, за ней и другие псы в общий хор встрянули. Я сижу. Жду. Что же будет творить серохвостый? Как это он смастерится щеколду снять да створы дверей распахнуть? Овцы мои, смотрю, замерли у дальней от окна стены, мордочки задрали, копытцами запостукивали, ноздрями запотрепывали; сами вспружинились, ровно перед прыжком да все свои головки к двери повернули. А дверь та не Бог как сладена, коленом вдарь – она и настежь. Я и сам на ту дверь гляжу. Любопытно мне, как же это он всё-таки угораздится с запорами справиться? Как представил это я себе, смехота меня стала разбирать. Ан терплю, молчу и не шевелюсь. Тулуп свой я загодя скинул, чтоб проворней было. А всё боюсь упустить мига, когда дверь та распахнёся. А как он рванётся да забегает пластью, да как вспрыгивает на первую, как правило, на самую, что ни на есть крупную - это я уже спознал, был случай. Овцы, ты не смотри, что они с виду такие смирные, при беде они, ой-ой, какие лобастые да ещё, если скопом. Вожатые да посильнее кто, завсегда малых и кто послабее у хвоста держат. Потому ночной пришлец с этими первыми в ряду и схватывается. Прислушиваюсь. Тишь аж звончатая. Нешто меня учуял и ушёл? Нет. Овцы знак подают, что здесь он, рядом. Гляжу на дверь. Жду – ровно сам окаменел в столбовом бездвижении. Мысленно тороплю его к действию и уж обрисовал себе, как дверь будет раскрываться, как он, прижавшись к косяку полураскрытой двери станет вглядываться вглубь полутёмного помещения и принюхиваться к дразнящему его запаху; как сделает свой, присев, крадущий шажок и… И вдруг… - Что такое? Мне по лицу, будто кто мягким и упругим шибанул. Я даже прянул чуток набок. Смотрю в окно, а там темь – ни звёзд, ни луны, никакого посвета. Только по боковинам рамки ставенки, как бы скрозь щели пробиваются блеклые просветы. Только что луна яичком свеженьким высверкивала – и вдруг темь. А прямо надо мной что-то замельтешило и по стенке в круговерть, хлоп – хлоп… Подишь ты, разберись враз, что это за наваждение? И вот оно - овцы стеной, единой массой рванулись в дверь и резко грудью на таран ударили в слабую для такого удара обшивку дверки. И тут меня озарило. – Я резко приподнялся и схватил обеим руками то, что хлопало по стенке. Так и есть - в моих руках, мухомор тебя тягай, был волчий хвост. Я ногами в стенку, хвост резко рванул на себя и чтобы окончательно ошарашить серого, гаркнул, что есть мочи: - ИГХЭТЬ! - Этот приём я перенял ещё в войну, когда в разведку хаживал. Мой незваный гость так же было рванулся, да где там… Зад-то его я приклеил к окну, а сам кричу: - Тимофеич! Тимофеич! Мой плут, как завертелся, как завертелся; туда – сюда, и в прыжок, и рывком в натяг. Слышу, как скребёт когтями по мёрзлому насту. Вот оказывается, от чего темь напала – он задом прикрыл амбразуру. И пока он этак-то извивался я при луне и разглядел его – оказался мой старый знакомец. Года два тому я стрелил его и пол-уха ему снёс. И вот он, братушка, сызнова встрелись. Ну, как и с чем зашёл, с тем так и приветили. Слышу, Тимофеич из избы выскочил, кричит: - Пущай его, стрелять буду! – А я ему. – Не стреляй. Пусть в огород махнёт, нето кондрашка овец схватит. – Он своё. – Пущай! Пущай! – Ах ты, так тебя растак, мухоморина язи, нашёлся громовой! Отхватываю ножом у серого пол хвоста, чтобы боль ему ещё больше прыти придала, разом отпустил его из рук и тем же разом в дверь да к Тимофеичу. Он уж ружьё навскидку. Я только и успел шапкой шмякнуть по стволу. Грянул выстрел, в небо грянул. А мой бедолага по снегу саженями пластью машет. Хозяин в другой раз стрелялку к плечу. Тут уж я гаркнул ему в ухо: - Глянь назад, что там? - он и оглянулся, а я ствол его вверх да на курок. Грохнуло из обоих ствола. Так он меня прикладом к земле, чуть не пришил. Потом смотрю, очухался вроде б от запала, показывает мне знак, что де с дураком связался. – Пусть его. Зато мой гостенёк вживе остался. Я ему, Тимофеичу и объясняю, что ни один волк в эту весну уж не заявится. И точно – не пришёл. А ещё долго в его глазах в дураках ходил. Потом уж он пришёл ко мне с мировой – всё расспрашивал мои знатки да приметки. Я и объяснил ему. Волки не отпираю дверей овчарни. Они чаще выбирают те хлева, где окошечки низенько от земли. Серый сунет в то окошко хвост т и , ну бить своим хвостищем по стенке – в страх наводит овец. А те с испугу и прыскают в дверь, выбивают щеколду и во двор. Им, беднягам, кажется, что зверь уже в хлеву. Тому того и надо – выбирай любую. А там, где ночной гость получит по зубам, как например наш, туда стая долго будет сторожиться творить тропу. А вот если бы ты его убил, то не к тебе, а к твоему соседу другой его товарищ стал бы наведываться, да и твоих овечек не упустил бы. А так – и овцы целы, и серый в лесу будет продолжать свою вахту нести. Так–от я у себя от мышей да от крыс избавился. Сколь да чем только не травил их – всё лезут и лезут, испакостили сколь всех продуктов в подполье да в чулане… Что делать? Как избавиться от них? Один знатный и научил меня. – Ты, грит, поймай живую мышку, опали её чуток огнём и отпущай на волю. Я так и сделал: сготовил мышеловку. Долго ждать не пришлось – попалась здоровущая крысина, что те кролик молодой. Пришла, как говорится, с шёлком, ушла – с щёлком. Обрил я её огоньком. И точно, сколь уж годков, а по сю пору - ни одной. Так-то вот, мухомор её в шляпе. Из глубокого кармана застиранного галифе дед Егор достал массивный трофейный портсигар, сунул в губы, на манер козлиной ножки, беломорину. Я протянул ему спички. – Нет, я своей гвардейской Катюшей огонь разживаю. – С этими словами он достал с подполки кремень, кресало, трут. - Движения его неторопливы, я бы сказал, даже церемониальные, со значением. Сам процесс добывания огня и раскуривание не было иллюстрацией позёрства анахранизма, дескать, гляди, город, как мы здесь без вашей цевильности. – И я глядел, точнее – любовался им. Всё так соответствовало и месту в глухомани тайги на пеньке у зимовника, и времени предзакатному, а главное – глубокой содержательной сущности бывалого, его облику, облику этого странного лесного великана в полтора и кепка. - Она, эта железка, моя мухоморинка, со мной ещё с окопов из его штыка. Он ведь мне тем штыком бок пропорол. Пришлось, как говаривал наш старшина, «реквизировать вместе с хозяином». Дым он глотал, как дитя конфетку, с наслаждением, чуть ли не причмокивая, но по-взрослому млея от кайфа. И вообще, он умел из многих маленьких потребностей извлекать сласть вкуса и удовольствие от содеянного. Умел дед Егор по детски искренне и радостно удивляться неожиданному видению, будь то причуды облаков, пение пичужки или красочной панорамы пейзаж природы. А более всего он радовался улыбкам и смеху детей и горестно печалился их слезам. В таких случаях он морщился и говаривал: - Самый страшный грех – заставить плакать детский смех. – Была бы у меня ладонь размером солнца, я бы всех плачущих ребятушечек вобрал бы и сугрев бы им устроил. Беда смотреть на горесть матерей, стариков и детишек. – И тут же, глядя в небесные выси, заметил: - Ночью однакоче восплачут энти небеса. Мошка к дождю спустилась, за ней во след и птица низами заполётывала, ажно крылами траву стригут. А небо было синь – синее, воздуха замерли теплым маревом. - А хочешь ещё послушать об этом «Рваном ухе»? – Вдруг обратился он. – Я ведь ещё раз встрелся с ним на его последний час. – Года два тому прошло после овечьего шума. И ни разу не слышали, ни от кого жалоб, чтоб у кого скотинка пропала. А на третий год случилось мне поехать за сеном на дальний покос. Весна уж во всю расходилась – днём жарит в три ручья, а в ночь, хоть тулуп кушаком подвязывай. Запряг я в розвальни – сани колхозную Машку затемно, чтоб днём не шабрить полозьями землю. А так, катком с ветерком промчимся. – И промчались. Куда как весело бежали. Эвон, недалече и стожок. Метров триста ещё бы пробежать. Да моя Машка вдруг заурсила, запотапывала резко встала да вспять с мордой на бок. Ах ты, Мухоморина тя ешь, что, думаю, за оказия? Рассветало. Оглядываюсь на круг – никого. Стожок стоял посередь большой луговины, деревья леса далековаты. Лошадь, она зря пеньком не встанет, просто так не захрапит и глаза не вспучит. Учуяла моя Машенька кого – нето неладного. Что было делать? Я её поворотил и у первой берёзки морду в ствол приткнул, привязал, значит накоротке. А сам вилы в руки и к стожку. Ружьё-то я редко с собой таскаю. А зря. Здесь бы оно к месту бы и сподобилось. Вдруг, думаю, ранний «хозяин», сам Потапыч лёжку на ночь где- то здесь сладил – вот незадача. Мне бы повернуть и на полудень сюда возвернуться. С ним, с Михайлой, об эту пору игры заводить – ни себе в достаток, ни ему на радость. Я ведь с этой гвардией дважды на голых, с одним ножом встревался, без пушки значит. Вишь, на руках моих и на груди, глянь-кось, росписи оставили. Дед приподнял полы рубахи, а я глаза нараспах – всё тело Егора Тимофеевича от плеча, груди и ниже было похоже на плохо вспаханное поле, по которому обстрелом прошлись два осколка снаряд, пуля и взрывные волны огня. Поперёк военных шрамов ярко выделялись красные и рваные рубцы когтей. Я обошел деда, взглянул на его спину – и там не чище… - Ох ты, святы, святы, сколько же ты, человече, вынес? На тебе, как на топографической карте, следы человеческой глупой и корыстной ненависти, медвежье оследье, «царапушки» рыжего котёнка – рыси. Солдатское поле тела не менее вынесла, чем земное поле боя. И если до того и была во мне, таилась какая-то снисходительность к этому чудаку – человеку, то увиденное мной автографы зла и зверства, а главное то, что как ни убивали в нём ЧЕЛОВЕКА и какими мощными средствами ни пользовались для этой цели, в нём не только не уничтожили мудрость ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОБРА, а наоборот – все эти боли, муки, страдания укрепили в нём и до утончённости развили в этом маленьком великане творить доброе всему сущему на земле, всему, что достойно жизни во имя жизни. Когда дошло до меня всё величие этого неприметного исполина, я понял, как безразмерно высок и почтенен этот ЧЕЛОВЕЧИЩЕ. Не смотря на весь его внешне неказистый - вся моя университетская образованность ничтожна перед его ВЫСШЕЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЩКОЛОЙ, которую он прошёл и проходит с неимоверным терпением и благородной целью. И пусть не покажутся кому-то эти слова напыщенными – в них я ещё блекло передал всё то, что я почувствовал и осмыслил. А он, не заметив моего смятения, смущения моей приниженности в самом себе продолжал… - Первый-то раз я побратался с медведицей. Я у берёзки банные веники вязал. Ко мне медвежатки подсунулись. Они по малости доверчивые – всё им любопытно. Ноги мои обхватили, поиграть им вздумалось. А коготки у них не пух лебяжий. Я отступил на шаг да отступился за колоду и чуток припал прямо на них. Тут же из-за куста налетела на меня сама Марья Ивановна. Подмяла под себя. Сам не знаю, как я изловчился из-под неё выбраться. Рядом толстенная лесина с низкими суками – я опрометью за него. Пока она сама очухалась, что меня под ней нет, пока обнюхивала землю да скребла когтями траву, я уж со страху скорей на сук, там белкой повыше. Только на вершинке и перевёл дух да и обомлел, потерялся значит разумом. Ладно что успел намертво обхватить лесинку. Потом уж, когда опамятовался, так долго ещё не мог разжать ладоней, окаменели они в хватке, ровно судорогой свело. Вот что со страху-то бывает. Второй раз я после рождества лоб в лоб стакнулся с мохнатычем. Вот уж не приведи Господь с о зверем об эту пору ручкаться. Он-то с голода да с холода готов сожрать и стволину, лишь бы жевалось. А тут перед ним вот он я, живая пожива. Обнялись мы с ним так, как я свою бабу не обхватывал, крепко облапались. Ладно нож завсегда при мне, тем и спасся. Будь он на четвереньках, худо бы мне пришлось. А коль встал на задние – грудь его нараспашку, только б рука не дрогнула. Ничего – справился. Нешто, думаю, сызнова придётся с ним, с Михайлой вожжаться? Не хотелось бы, особливо на энти зимнее весенние поры. Энти шатуны куда как опасны. Ну да с вилами и я не лопух – старинушка с рогатинами их в полон брала. С вилами мне и чёрт – не дьявол, только б рука не подвела да ноги б не скользнули. Ну да ладно, авось, как-нибудь да сговоримся…. Иду я, значит, к стожку. Не торопко иду, глазами окрест обрыскиваю. Солнце уж на первую ступёшку шагнуло – всё видать. Снег подо мной коркой. Не проваливаюсь. Пройдись я часом позже, хлебал бы сапогами тюрю. А так ничего. Упёрся я глазами в стожок, мыслёй наскрозь стараюсь стожок общупать. Мне и в голову не стрельнуло, чтоб по округу сторонкой обойти, а пру напрямую в лоб стожка. Стожок мой невелик (два воза с него уж брал.), чуток повыше меня лепёхой разлапился, сейчас остатнее б забрать. Вот уж метров десять осталось. Я вилы в штык наперевес, сам присогнулся. – Уж, думаю, кто кого да как привечать станет - или он меня обоймёт, или я его…. В таком деле пуще пущего бойся неожиданности, чтоб тебя врасплох не застали в самом для тебя невыгодной позиции. Обдумай его действия со всех сторон и сам постарайся поставить его, супротивника, в неожиданное и неудобное для него положение. Как в разведке на фронте. Тогда уж и диктуй ему - хенде Хох. Вот он и стог, хоть зубами былинку из него тягай. Встал. Вслушиваюсь. Оно хоть и была тихота сторожкая, ан чую, кто-то есть…. Я уж по округу стожка шажки мелким бисером замёты делаю. Вот уж полстога прошил – никого. Ещё сколь себя без дыху продвинул – всё та же немь. Тогда я рванул, как из лука стрелой пущенной, остальное, да только чуть в сторонку прянул. И, надо же – нигде никого. Что за оказия? Тут же я и почувствовал, что весь, словно в январском прорубе в одёжке пробултыхался.- с меня течёт леденящими струями. Никогда я у сена не закуривал. А тут грохнулся к стогу спиной и высек искру. Выкурил – вроде б успокоился. А мысль свербит – что же это Машка моя так встрепенулась? Может в кустах кто? Так нет – они наскрозь проглядываются, всё, как на ладони видать. Ну Машка-то ладно, что же сердце моё так затрепыхало. Оно вроде бы ещё никогда сбою не давало, не подводило меня своим чутьём. – знать, старею. И всё же…. И всё же, что-то не так, подсказывало мне моя лихоманка – душа. Кто-то есть, и не за далями есть, а здесь таится это мне неведомое. Шарю глазами весь окрест. Да что толку прожектора наводить – мышонок за саженями, и тот пуповиной бы гляделся. Вот незадача. В сердцах я на Машку, на себя, на всё это наваждение сплюнул, выругался во всё горло – с тем и поднялся на свой стожок. Забраться на верхотуру стожка дело было плёвое – воткнул в боковину вилы, вот тебе и ступенька; как за сук, подхватился, подтянул ноги, перекину. И я уж на вершине. Мне бы тут же обернуться, так нет, не оглядываясь, вытащил вилы, схватил их сподручно, чуток притоптался, устойчивости ради. И тогда только я повертался. Ещё, помню, шажок сделал, этак пружинисто приседая, и… - Мати честная, на меня в упор стреляли два враждебных глаза, смотрели настороженно. Так злыдень пёс, чуток прижавшись к земле, впитывает в тебя клыкастые свои гляделки. Я шаг назад, вилы ружьём вбок. – Жду. Разглядываю. Там, в серёдке стожка лежал, поджавши лапы под себя, крупный матёрый волк. Шерсть на гриве вздыбилась, взрыкнул, клыками заискрился. Сейчас бы ему и рвануться на меня или – хвост под брюхо да кубарем отсель скатится и пластом, куда подалее сигануть. Да в том-то и диво, несоответствие вроде бы – перед ним его супротивник, а он, хотя бы дрыгнулся. В случае крайней и нежданной опасности вол, опираясь на все четыре, чуток приседает к земле для стремительного броска. А этот, вот диво, лежит – и всё. Только, мухоморина, глазами в дуплет молоньёй стреляет. Злоба, страх и ещё что-то такое, ровно не я, а он здесь хозяин, а потому сматываться не собирается. Я направил вилы ему в морду, подступаю ближе – нет, не шелохнется. С такой вот дистанции да в таком положении инее ничего не стоило вонзить ему вилы в бок, с тем и покончить. Да что-то щемящее удерживало меня – что-то здесь не так…. Хоть бы сопротивлялся он, что ли, мухоморина клыкастая. Так нет, лежит окаянный. Я и совсем осмелел, перевернул вилы обручьем, пихнул его, дескать, вставай да сразимся на равных, зуб на зуб. Он лишь повернул голову в сторону палки, мне тут же в глаза бросилось его рваное ухо. - Ах, ты голубонька, - подумал я, - что же это с тобой приключилось, победная твоя головушка? У меня страх перед зверем и всякое злобное чувство отпали. Передо мной был страдалец. Я ещё не знаю в чём его беда, но по тоскливому взгляду, по его смирению, дескать , делай со мной, что хочешь – я весь в твоих руках, я понял одно – парня надо спасать. Я тут же отбросил вилы в сторону, присел к нему и осторожно стал его разворачивать – он, мухоморинка, хоть бы что, даже головы не подымат. И вот он – весь передо мной в развёрнутом виде. Я покачал головой – всё, отбегался братушка. Лапы у волка от перезамерзания стали, что сухие палки. Днём-то он видимо набегался по хрупкому насту, поизрезал сосуды да сухожилия об острые края льдистого покрова, на ночь ещё сумел вскарабкаться на стожок, там лапы совсем и окоченели. Днём-то оно теплом парит, а солнце зайдёт, хоть тулуп вздевай, клящим морозом обдаст. Такие вот наши сибирские курьёзы. Для лесного люда эта пора куда как тягостна. Н-да. Что делать? А что? – а отвезу-ка я его к себе, авось, что-нибудь да придумаем. Главное сейчас – это не давать лапам тепла: от боли изойдётся, окончательно свалит на нет. Осторожно – осторожно вздымаю его на руки, привалил всего себе на грудь. Он и голову свесил мне через плечо, что те куцый щеночек. А меня такая жалость взяла, чтобы такая матёрая зверина да такая покорлива была? – это, что льва в голубой бантик обрядить и кошечкой за мышками бегать заставить. Не-е-ет, не волчья это стать, ручкаться с людьми. Волк есть волк, из всех зверей зверь. Ин да беда и слона в зайца обратит. Такие они, мухоморина, дела. А ты говоришь. Сполз я со своей горушки и понёс серого напрямки к Машке. А наст уже прихватило теплом, стал ломким. И что ты думаешь? – я пока дошёл до розвальней, сапоги мои того – что те бритвой поизрезались, так чего уж говорить про четвероногих, им на эту пору самая муката: и лютости зверья бояться, и шибко не набегаешься по такому вот снегу. Подхожу я этак-то со своей ношей к саням – моя Машутка тут и совсем извилась: белками кособочит, копытой о землю колотит, крутит мордой. Ну да у меня есть в таких случаях к лошадям особый подход, ещё с войны обучен. Глаза ей завесью призакрыл да под уздечку жилу с натягой протянул, присмирела вроде. Взвалил я серого на сани, сам поудобнее сел – к деревне поворотил. Лошадь и подстёгивать не надо – мчит опрометью, ровно стая волков за ней в убег. Я гляжу этак-то на своёго страдальца, а у него в глазах такая тоска, доложу я тебе, хоть на колени его клади и к груди прижимай, что те малого ребёнка. Я и положил, и к груди прижал, и сам бородой к нему приткнулся. До того мне стало жалко его, до того – хоть сердце своё вымь да в него вложь. Ну, едем мы, едем, я ему что-то мурлычу, де не беспокойся – в обиду тя, мухоморинка, не дам, а ходульники я тебе разотру, гусиным салом да дёгтем промажу – и будешь ты ещё на рысях кого нето гонять. Сам его поглаживаю, лапы потихоньку растираю. Мы быстро домчались до деревни, как ещё Машутка нам сани не разнесла. – Вот и околица. Банька бабки Евфросинии завиднелась. Чуток поближе подъехали, Ейная шавка в брех, за ней, другая, а там весь собачий содом в захлёб нам на встреч концерт устроили: лают, воют, скулят и визжат. Мой дружок так-то ёжиком вжался, шерсть вздыбил – весь как бы рванулся. Я его морду крепче аж к лицу прижал, тихохонько похлопываю, де не бойся, дурашка, не тронут нас с тобой, не посмеют. Он и смотрит на меня – глаза в глаза. Я не могу оторвать от него взгляда, он от меня - этак-то смотрит, мудро смотрит, по человечески, ровно прощается со мной. Помню, точно также печально и смиренно смотрела у меня на коленях наша фронтовая разведчица Анюта. Глядит она, а в глазах её больших такая тоска, что хоть сам волком завой. Так вот и этот бедолага – смотрит, прямо в душу смотрит, мухоморина разэтакая, да и лизнул меня своим горячим красным языком. А из его глазища покатилась слеза, одна слеза - мужская. И была эта жгучая капель последней последнего дыхания. /Из философии старого егеря/
|