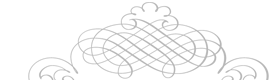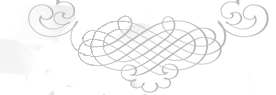НЕХОРОШИЕ ДЯДЬКИ.
ДЕД Егор замолчал – нехорошо замолчал. Иной при таком вот молчании, кто обделён душевной добротой и чьи действия совершаются не от разума, а лишь по древнему зову инстинкта совершаются - такие типы, как правило, быстро взрываются необузданной лютостью. - Губы деда сжались и не только взгляд, а всё тело, казалось, прищурилось, чтобы тут же выдать на отмашь всю душевную накипь. И только-то это я хотел, чем нето отвлечь от чёрной авеси дум, как он сам, будто успокаивая меня, но с какой-то горькой значимостью выдохнул: - Эхма, мухоморина тя дери! Ет ешшо, тьфу тя пропасти, я на зачин лишь те сказывал. Мелка вошка на малый кус. А ну как ты большак в начальстве, а снутря ты скверной коростой облепился и с энтой трухой гнильца людьми правишь?.. Нешто возьмёшь ты в свою команду тех, кто совестлив?.. Знамо - нет. Каков сам, такова и свора вокруг тебя. Оно известно - каков хозяин, таковы и слуги: если вор он, те ворюги. - Я уж хотел спросить его, о чём это он? Да признаться, меня его рассказ о косуле довольно - таки покорёжил, как только представлю эту картинку бой двуногих и четвероногих зверей за лакомый кус – брр… Но мой «профессор», словно на него что-то нашло, решил опорожниться от снедающих его шлаков и накипи, поведать ещё более горестную историю из своей жизни и чужих судеб. Видимо, выплывшая по-над лесом полная луна изливала мертвой синевой отрицательные флюиды или болотная хмарь, полная своей коварной и мрачной жутью, действовали на деда, вызывали мрачные воспоминания. Начал он свой рассказ, словно стон. - Была у меня внученька, Анютой звали. Было ей от роду шесть годков. На то лето по случаю командировки в дали дальние мой сын с молодой женой, привезли девочку ко мне. А я что? – мне оно только в радость, всё скрасит нашу лесную заимку. Места у нас, сам знаешь, вольные, спокой -ные да и лепотой изукрасисты – будет, чем радовать глазки. Лето стояло столбовое, одно слово – господское: ночью отпустит по мерке дождя, так, чтобы звёзды ополоснуть да бабам огороды полить, а днём – ни облачка. Вся поросль, как на дрожжах, в мах пошла. То-то живности отрада. На тот час, как малой приехать, по овражьям да полянам ягода пошла. Малые птахи крылья точили на тверди небесной. А по чащам – ко всякой самке детки к соскам жались да первой травушкой губки щекотали. У меня, на этом вот зимнике только – только начал в себя приходить детёныш косульки. Подобрал я его вон там, в шаманской впадине. С мамкой видимо какая нето беда приключилась. В лесах такое случается. Вот и привёз я свою Анютку на этот зимник. Думаю, друг другу они не помеха, скорее найдут общий язык, сдружатся; Анюте – в науку, косульке – на пользу здоровья. Так оно и получилось. Недели не прошло, а они уж и приклеились одна к другой. Да так-то приручились, что моя озорница за стол не сядет, чтоб допреж свою подружку не полакомить. И та без девчонки ни на какой лужок, али в лесок и шагу не ступит. Оно и смех, а мне забота. На ночь только и разлучались да и то не без слёз – Я со Звёздочкой спать хочу! - и только. Нюта щёчки орошает, а та сиротинка вокруг дома бегает, в её окна головку тянет да тревожно всхрапывает. А утром, как только проснутся – друг к другу чуть ли ни в объятия. Моя ласточка вынесет ей хлеба с подсыпкой соли, та искусит лакомство – и ну стегать по малому кругу; головку запрокинет, ножки на взброс, что те в танец развесёлый пустится. И Лёнушка за нею пустится –ручонки в крылья расластат, чисто пташка какая. Там что-то запоёт бессловесное, на – Ля-ля-ля и Га-ги-го, над чем-то всхохочет и зальётся всех ласковых слов. Уж как она только не называла свою подопечную – все цветы с лугов перекликнет, пташек да безобидных зверят в букет соберёт. Этак-то нашалятся, встанут друг подле друга: не поймёшь, кто кому, куда головку приложит; косулька – Звёздочка девочке на плечо, а та ей на грудь и что-то о чём-то воркуют, шепчут друг другу. Так вот, тесненько прижавшись, пойдут на луга. Всё вон по той взгорочке гуляли. Косуля уж травушку начала пощипывать, девочка ей малинки с ладошек… Потом, смотрю, они всё дальше и дальше стали от дома отходить. Меня это в тревогу. Ведь как ни хорош лес, а всё же он лес и есть – лес, осторожность здесь никогда не лишняя. Однажды возле нас какая-то матка – косуля с двумя детёнышами прогуливалась. Наша сиротка к ним. Оно же, как – никак, природа сказывается: лебёдка к лебедям в стаю норовит. Девочка моя на этот час в дому молочко с хлебом хлебала, хлюпко губами почмокивала. Потом до самого вечера мы с ней обрыскивали все окрестности. Анютушка – на взрыд, всё звала и звал, ажно горлышко на хрип запершило. Спать её я едва – едва уложил. – Буду, говорит, Звёздочку на крылечке дожидаться. – сладу мне с ней на тот час не было. И ночью во сне то встонет, то что-то ласковое с посмешком взговорит. А на утро – радость: косулька вернулась. Только на боках её были ранки от рожков самки. И что я заметил – за эту ночь моя Анютушка ровно повзрослела, не на год себя в разум превзошла. - Вот что, дедуня, - сказала она, - ты достань, дедушка, колокольчик да позвончее и пусть гуляет, где захочет. Она ведь лесная. Ей ведь тоже хочется играться с такими же девочками, как она сама. Вот и пусть играется. Не всегда же Звёздочке быть возле нас, а мы будем знать, где она пасётся…- Так и сделалось. Купил я тренькалку позвончее. Анютка её - в алую ленту и повязала косульке на шею. С тех пор наша сиротинка нет – нет, да пропадала невесть, где по многу часов, а к утру, к лакомству внучки, не запаздывала, мягкими губами прибирала угощение с её ладоней. И Анютушка стала относиться к ней, более сдержано: меньше приваживала её к рукам, реже кликала её на ласки. – Пусть приучается к самостоятельности. – Говаривала она, не детски глядя на свою любимицу. И всё же я, случалось, усматривал картину, когда они стояли одна подле другой и о чём-то своём переговаривались. И всё та же Звёздочка ложила её голову на плечи, а моя – прижималась своей головкой к её шее. Однажды, уж июль на излёте зеленью разнарядился, над нами, нежданно - негаданно шумно протарахтели вертолёты. Я видел их немало, особливо при лесных пожарах. А тут, сам не знаю отчего, сердце моё защемило да так-то сжало, хоть ложись и руки накрест – беду, знать, учуяло. На ту пору я в аккурат пришёл от дальних еланий, догляд производил, что там да как… К тому времени браконьеры стали пошаливать на соседних участках. На моём-то - не больно разгуляются, острастку быстро дам. В доме моя росиночка – Анюта с бабкой хозяевали: одна – травы на снадобья перебирала, другая цветами себя красила, венцы плела. Я во дворе на пригревенке солнышком ласкался. Тихо было и покойно. Мой Яшка где-то промышлял. - Кто этот Яшка? – Спросил я. – Ты, дед Егор, ещё ни разу о нём мне не сказывал. - Да был такой у меня подружок. – Недобро ухмыльнувшись, дед подбросил в костерок веток. – Кот – верхолаз жил возле меня. Малым рысёнком я подобрал, ещё до косули. Взрастил да и выпустил в леса. Так он возле меня и жил в чаще, вроде, как собачью должность при мне справлял, сторожил, значит, когда никого в дому не было. – Дед достал кисет с самосадом, скрутил козью ножку, наклонился к красному угольку на прикур – узорчатый вышивкой кисет и выпал да прямо в серёдку костра. Он тут же голыми руками разбросал на стороны горящие поленья и успел выхватить, не задетый пламенем, кошель. Руки деда тоже не были обожжены. Я с удивлением взирал на этакое чудо. А старый егерь с трепетным страхом рассматривал кисет и, убедившись в его целости, довольно крякнул, аккуратненько его расправил и сложил в нагрудной карман. – Памятка старухи. – Сказал и губы сжал, уставившись взором в пламень костра. Лицо деда посуровело. Молчанье затянулось. Взгляд выражал праведное осуждение, что те у государственого обвинителя на Нюрнбергском процессе,. И сам он весь как бы вырос до международного деятеля организации ООН. – Н-да, - подумал я, - Мал чубучок, а не перекусишь. Такие вот, со своей правдой, и на амбразур пойдут, не остановишь; не улестишь их, не сломишь. Где-то рядом в кустах дробной россыпью щебетали птахи да издали, хрустальным гуком, доносились страдания кукушки. Солнце заалело на закате яркой желтизной с пурпурными разводами. Слабыми извивами красных ручейков догорал костёр. - Завтра, я так смекаю, ветерок нагонит непогодь. – Начал дед. – Так вот, когда вертолёты сели на Анютиной поляне, мы все трое пошли навстречу, скатившимся из брюха машин. Было их много – человек двадцать, среди всей то честной компании были и три женщины. Девочка в своём синем ситцевом платьишке, не ведая своей беды, мчалась им навстречу, что те козлёночек. А у меня ноги словно подкосились: люди, как люди, а вот поди ж ты, мухоморина тя ешь, не идут мои ходульники и не идут – я и присел, где их сковало. Потом ничего, отошли, только сердце – вещунье болезненно ныло – верный признак напасти. Но это всё потом. А пока, смотрю, подлетели ещё два стрекача – начальство моё прямо с неба на меня свалилось. Все улыбаются, какие-то слова бодренькие говорят, меня похлопывают, что те хозяева собачку задабривают ласкательствами – другим, кто по рангу помладше, какие-то команды подают. – Возьми там-то то-то, отнеси туда-то, да не разбей, не срони… А из одной машины, что опустилась чуток подалее - Батюшки свете! - что за чудо дивное – выводят из отверстия, что ты думаешь? - разную таёжную живность. Да не просто там какую, а самую, что ни на есть значимую в лесах. Все связаны, верёвками опутаны. Тут и два медведя, и рысишка, лисицы, кабаниха и свора молодых волчат – знать, из цирка какого нето. Медведи, так точно, со сцены – сами шли на задних лапах, бошками с боку на бок вертели, морды их ремнями перетянуты. А там, ты глянь – и клетки с глухарями да с дикими утками в лесок потащили. Вот те на, думаю, нешто зоопарк здесь устраивают? – Смотрю я на это на всё и диву даюсь. – Уж если, мухоморина тя, ты прибыл сюда охотиться, то на кой ляд ты привёз сюда то, что у меня здесь и без того в достаток. Походи. Потрудись. Ноженьки до устали помни. Поползай утречком с под ветра по росистой травушке. Помёрзни по ночному туману. Помокни под проливным дождём. Наберись терпения – только тогда насладишься всей прелестью охоты. А тут… Ну и ну… - Чудеса, да и только. - Здесь мы устроим временное охотничье становище. Прибыло большое начальство, аж из самой из Москвы. А вскоре прибудет, только – тсс, самое из самых со значительными иностранными гостями…. И мы не должны ударить лицом в грязь, а встретить со всем нашим русским хлебосольством и радушием. – Говорит мне это, брызгая слюной из губ – пельменей брюхатый Тимофей Тимофеич, мой непосредственный начальник над моим местным начальником. А сам я думаю: - Провалились бы вы все куда подальше. Какая сейчас охота? Сейчас вся молодь только-то на ноги да на крыло встало. Им бы всем, моим братушкам, на енту пору только бы окрепнуться, резвости да опыта набраться бы. А вы эту молодь – под смертельный грохот огня, под свинец… - Что у меня было на душе, то, видимо, засветилось и на лице. - Ты это, Егор Власович, смотри – не того… Что-то мне твоё физиономия не нравится. Понимай, кто сюда, к нам припожалует… вникай. – Сам набольший всей страны! Дошло до тебя? – То-то же. Иди в дом, а мы тут без тебя разберёмся. Твой родничок жив? – Это он спросил об одном тихоньком родничке – вода из него шибко пользительная. Многих той живительною влагой, как тебя, я излечил. А пришлые незваные гостенёчки тем часом хозяйничали уже вовсю, что те рабы в ожидании хозяина своёго. Лес пилят, техникой земли зелёную живую кожу режут, под гусеницы роняют слезки с головками своими цветы и травки трупами ложатся. Вокруг рвут тишину на клочья рёв моторов, гвалты голосов и хлопы пробных выстрелов из ружей. А ведь это лес – он не любит суматошной суеты и гама. А тут, на тебе - орда басурманская саранчой налетела, а не охотники. Не прошло и трёх дней, как эти архаровцы понастроили вокруг охотничьих времянок - теремов, кухней, коптилен и даже – живодёрен; место, где этим столичным разбойникам сподручнее с жертв своих исподнее сдирать. Стрёкот от этих вертолётов стоял оглашенный и днём, и ночью. Всякой всячины навезли – от птичьего молока до чуть ли не до пулемётов, не говорю уж о всяких господских нежностей – роскошеств в посуде, в играх и для опочивален. - Эх ты, темнота глуходрёмная, - пояснял мне моё недоумение мой старшой, - это мы с тобой могём на брюхе ползать за какой-то там тварью да гнус питать своей кровушкой. А они там, кто повыше подымай, станут спины гнуть да дыхание таить, чтоб зверя не спугнуть? – велика честь, как же… Да они там, в своей белокаменной и перед более крупными зверьми международного класса спин не гнули – перед ними иные господа в три погибели изгибаются. А ты хотел, чтоб сам набольший ножки трудил да терпел от какого-то паршивого кабана всякие страсти – напасти. Не-е-ет, не станет он перед всяким рылом ломать спинушку, да и мы не позволим ему трудить себя. Мы им создадим все условия для удовольствия – пущай их палят да радуются своим охотничьим трофеям. А эту самую каждую трофею мы загодя расположим в нужных местах. Сотворим им подставы, пусть их тешатся. Им в удовольствие и нам не без пользы. – Старик замолчал. Весь его облик при синюшном свете луны казался обожжённой головёшкой. – Это ж надо такое придумать, на потеху каприза одного, кто бы он ни был, организовать улов живности, собрать, упаковать её и вертолётами сюда – на расстрел… Дед Егор продолжал свою печальную быль как-то глухо и беспощадно к самому себе, словно последнее откровение на исповеди. Всё в нём казалось – умерло, жили только губы, жадно втягивающие дым едкого табака махорки и хрипловатый, полный таинственности тревожный голос. - Ты вот, я заметил, музыку и народные песни, - обратился он ко мне, не поворачиваясь в мою сторону, а всё также отрешённо глядя в глубь лесодремья. – А знаешь, какая самая распрекрасная музыка на всём на белом свете? Нет лучшего звучания, чем голос новой жизни, смеха детей и улыбки старых. Но нет и страшнее, чем предсмертный вскрик малой твари, плача матери над ребёнком и проклятия стариков. Давно уж говорено: самый страшный грех – заставить плакать детский смех. Горе тому и Суд Божий над тем кто экое творит. Там, где страдают дети, матери и старики, там печать проклятия; зорюшка там – и та черна. И будет так, пока Бог, Его Любовь, Добро и Милосердие не восцарствуют в душе каждого здравого человека. – Вот такую высочайшую, я бы сказал – всепланетарную истину выдал на гора этот неприметный человечек, выросший в своей идеологии до размера колосса – человечища. – А мои залётные охальники всё по слову начальник а и содеяли: на ветках лесин привязали глухарей, к колодам – зайцев приткнули, лисичек к норам, что сам и вырыли, пристегнули, кабанов к подножью кедрача, не знаю, каким манером припластали; медведей и привязывать не было надобности – ручные мишки. Они за людьми и так ходили, выпрашивая сласти. Вот уж Анютушка вволю над ними посмеялась, как они за горсть карамелек отплясывали по-медвежьи лезгинку и всем для здравствования протягивали лапу. – вот их-то всех бедолагушек и на убивство, не давая им природной самозащиты; кому убегать, а кому и нападать. Так вот под расстрел фашисты ставили наших пленных. А теперича, ты глянь, наши своих братушек под дуло. - Старик долго с болезненной отрешённостью смотрел на угасающий огонь, куда я понемногу подбрасывал сухие ветки. Лучи язычков пламени красным отсветом играли на его недобритых щеках, гротескно подчёркивая состояние скорби. Под стать сумрачного состояния старого егеря, оттягощёного свинцовым бременем воспоминаний, небо подёрнулось серой с фиолетью завесой туч, грозя проливным дождём. Все признаки природы говорили: - … и грянет гром. Затихли голосочки пташек, замер осиновый лист, воздух наполнился гнетущей тяжестью и предгрозовой настороженностью. Я уж хотел гасить костёр и отправиться в зимник. Но дед, по известным лишь ему признакам, сказал, чтоб я не суетился, что дождь пройдёт стороной – по шаманскому распаду. И точно, вскоре засверкало, с раскатистым треском загромыхало и зашумело каскадом вод недалече от нас за подлесьем, у самой кромки кедрового цельника, что ещё совсем недавно чётко прочерчивался на фоне яркой и густой зелени своей графической чернотой. - Деда, - обратился я, к уставшему от переживаний своего рассказа, страдальцу - не теребил бы ты свою душу, не ворошил бы ты свою незаживающую болюшку. - Оно-то можно бы и не ворошить, - перебил он меня с тяжёлым булыжником – вздохом, - да вот, тя мухоморина, чем тягостнее ноша, тем скорее хочется сбросить её с души – да ить не сбросишь, нет, не сбросишь. До последнего дня она будет меня тяготить – всё гнетёт меня и гнетёт и покою не даёт. О, если бы я знал, если бы я только знал, чем отольются нам его «забавы» охотника, чем этот жестокий цирк закончится…. Если бы заранее я ведал, я бы нашёл способ, как предотвратить всё то, что случилось. – Ну зачем? Зачем меня дёрнуло на тот час отправиться на дальний омшаник? Ведь сам напросился, де живность углядеть, да что там по округу…. А я, если правду молвить, хотел просто сбежать от этой всей сумятицы, чтоб не видеть всё это шутовское кроволитие над безвинными. Анюточка останется здесь не на безлюдии, есть кому присмотр держать – недели за две до того приехала ко мне двоюродная сестра – травница Пелагея. Добрая, скажу, душа, большая хлопотунья. Да всё вышло по иному, горше и не придумать. Позже, как оно приключилось, мне всё обсказали моя травница да мой товарищ Евлампиевич, сосед по участку, такой же егерь, как и я. На другой день после моёго ухода на двух вертолётах примчался наш росейский главный со свитой. Встречали его ружейным салютом. Вот дурманы – устроили грохот, где спокон веков тишь стояла, только лес да моя внучка весельем да песнями голосили. А на другой день вся эта братия устроила «охоту» по привязанной живности. По глухарю этот горе – охотничек стрелил, а он и повис на верёвочке вниз головкой, а зайцев он, и стрелять не стал – подошёл, и прикладом упокоил, только по медведю посовестился стрелять. Он, сказывают, уж и ружьё на зверя поднял. А тот под его стволами и зачал чудить – вприсядку пошёл плясать да раскланиваться. Потом Тишка, так потапыча в цирке прозвали, лапу к стрельщику тянет; толь ручкаться восхотел, толи плату за свой номер требовал, а может – пощады запросил. Этот убивец и пожалел его, и то - слава Богу. К вечеру, говорит Евлампиевич, они «мальчишник» устроили, а попросту сказать – разгульную пьянь с песнями баб, с плясами да с причудами на всю ширь распустили. Разожгли огромадный костёр - и давай через него сигать, да просто абы как, а непременно в исподних подштанниках. Там, за костром два милицейских с вёдрами их караулят. Это чтобы, кто не перепрыгнет, так того вымать из огнища да водой залить. – Иные, - говорит Евлампиевич, - ничего, что те козлы взмётывали, одолевали кострище. А иных прямо из огня вытаскивали, в чем мать родила. Иного вытащат, а у него такое пузо, что всю мужскую стать собой прикрывает – и рук не надо, срамоту закрыть. И глядеть –то на энтих прыгунов с подстыдом только можно – и смех, и грех… Одним они напотешились, другую причуду удумали – чехарду затеяли. Девок, коих сюда навезли на свою мужиков потребу, так их тоже в эту игру сгомошили. Иной бугай как вскинется на былиночку – девчушку, у той спинушка и ломилась, ножечки коленками на земь пластались. Одну так ухайдакали, что пришлось срочно вертолётом увозить, к доктору. А главный на ту пору у котлов распоряжения отдавал Стряпчим. Он, слышь-кось, говорят - большой дока, как сварганить живность. Однем словом, к заходу солнца они все были ублажены играми, песнями, снедью, а более того –палящей жидкостью. Им бы на том и угомониться – всеми уж прихотями усытились по ноздрю и выше. Так нет… Вбегает их главный шут – затейник. Что-то им такое сказал, что набольший тут же руки о скатерть обтёр, хватает ружьё и вон трусцой вперевалочку засеменил. Остальные тоже за ружья и за ним. - Я на тот час, подходя к заимке, стоял у Емельяна. Так надолб у нас прозывается, что целикового камня из земли вздыбился. – Пояснил дед Егор. – Он эвон там, отсюда километра два, как на болото идти. Когда-то это место облюбовал чудак – человек Емеля. С рук, сказывают, всякого зверя кормил. Вот стою я у того камня, оглядываю окрест в биноклю – и мать честная, что вижу: там, вдали окоёма луга два не наших краёв егеря косульку ведут на верёвочке. А на шее у неё красная ленточка с бубенцами. Идёт она этак-то смирнёхонько, ровно с добрыми людьми. Они сорвут травку и подают ей. Она берёт у них доверчиво с рук своими тёплыми губами. Знала бы страдалица, что за супостаты и на какую погибель травками заманывают. Я бегом к ним, что-то кричу на ходу, руками машу, де – остановитесь!.. - Да до туда шибко далеко я был. Два километра – не близь, меня не видят, голоса не слышат. Эти двое привязали бедолагу к березке, и пошли к становищу. Вижу, им на встречу толпа залётных охотничков, в серёдке – их старшой. По закраинам поляны гуськом бежит его личная охрана. Сколько-то, совсем немного не дошли они до косули. Этот лысый колобок, что-то сказал двоим егерям, что вели Звёздочку. Те вернулись к косуле, отвязали её. Она к ним мордочку тянет. Смотрю, все расступились перед своим Пупком. А тот присел на корточки, опёрся на одно колено, да и вскинул пушку. Его помощник махнул рукой егерям – знак подал: егеря на стороны отбежали. А косулька-то, вот дурочка, вслед за одним дробными шажками трусцой. Тогда тот и хватил бедную палкой вдоль спины. Она вздрыгнула ножками и скачком в кусты помчалась. Да где там – охранники её на полянку прикладами направили. Вот она и рванула на простор той погиблой поляны. Пробежала она сколь – нето, совсем близёхонько от шайки разбойников и привстала. Те – в истошный вскрик. Она в прыжок… - не успела и земли коснуться: громыхнули выстрелы из двух стволов, косулька вскинулась, что те горлица, да и рухнула на землю. Все кинулись к ней. Только он, мухоморина его язи, стоит со своей охраной, ждёт, чтоб поднесли ему его трофей. И поднесли. Он лыбится на всю ширь, руки с ружом вскинул, дескать, вот я каков…. А те его здравствуют, поваляют, показывают, куда он уметил, ручкают его – голосят… Подбежал и я. Ручкаться со мной он не стал, а только так-то по-барски похлопал меня по плечу, дескать смотри, какой я удалый стрелец. А я и смотрю, провалиться бы мне впору – вся мордочки косульки разворочена и в спинке дырище. Жиганами он её трахнул. Я тут же отвернулся, чтоб не видеть их безобразные довольные рожи, не вскричать бы ему в его шары, что дёгтем вскипело у меня там… И вдруг звонкий детский вскрик – на весь окрест леса вспорол гогочущее рокотание послугов лысого охотника. И был этот детский пронзительный крик, что высверк молнии. Мы все разом оглянулись на этот детский зов страдания. К нам по поляне, что есть мочи, бежала моя Анюточка. Она бежит, что-то истошно кричит, ручками машет, плачем на всхлип захлёбывается. - Не надо, кричит, не стреляйте! Дяденьки, не надо! Не надо убивать мою Звёздочку! Это моя! Моя подруга! Не стреляйте! Дяденьки! – И такая эта была мольбы: не человек – камень бы сжалился над ней. Она подбежала к нам – все расступились. Девочка с налёту к ней, к убиенной. Хотела косульке мордочку ладоньками погладить, а там – сплошная рана, и кровь сочится, мошкара и слепни над раной вьются. Девочка прижала пальчиками ранку. Плачет. Что-то лепечет. Другую ручку положила ей на спинку, погладить хотела – а и там дыра и кровь. Анюточка – и затихла… - замерла вроде. Только ленточку кровавыми пальчиками перебирает – и молчит, нехорошо молчит. Так бабоньки обычно так затихают при встрече с внезапной бедой, когда она, треклятая, мухоморина её бодай, у родного человека последнее дыхание загасит, как бы ещё не веря в случившееся. Я склонился над ней, взял её за плечики. А она обхватила шею косули обеими ручками – и молчит. Глядит , то на нас, то на свою Звёздочку – и молчит. Я не смог, а чьи-то руки подхватили девочку, оторвали её от косули, приподняли от земли. – Вот тут Нюточка моя и забилась. Вырвалась она из чужих рук, да как зачала бить кулачками, кого ни попадя. - Вы нехорошие! Не хорошие! – Кричит. – Нехорошие дядьки! Вы плохие дядьки! Плохие! Плохие! – и упала пластом на траву, вроде как – обморочилась. Прибежал евонный доктор, поднял девочку на руки, а в ней, как и совсем жизни нет… Отправили мою Анюточку вертолётом в больницу. Вот уж два десятка лет прошло, а придти в себя она всё не может. По сю пору только-то и говорит: - Нехорошие дядьки! Нехорошие дядьки! – Не стреляйте! Не надо убивать мою Звёздочку!..
|